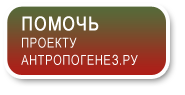"...в России наука не стоит на почве, на которой желательно было бы её видеть, что всюду примешиваются личные интересы, вопросы национальности отдельных личностей и т.д. К сожалению, прибавлю я, это всё верно не только в России, но и всюду. Самое лучшее, что "учёный" (т.е. такой, который действительно смотрит на науку, как на цель жизни, а не как на средство) может сделать, это идти вперёд своею дорогою, не обращая внимание на мнение толпы направо и налево! К сожалению, весьма многие из так называемых "учёных" относятся к науке, как к дойной корове, которая обязана снабжать их ежедневным продовольствием, что делает из учёных – ремесленников и иногда даже просто шарлатанов. В таком случае научная истина – дело второстепенной важности для таких господ (а их, к сожалению, много, наука, приносящая им больше грошей, – самая привлекательная; им приходится ухаживать за толпою и её вкусами..." Н.Н. Миклухо-Маклай, 1881 г.
Рассуждал ли первобытный человек об отвлеченных идеях?
Примером могут служить термины, служащие в разных языках для обозначения цветов. Хотя число цветовых оттенков, которые могут быть различаемы, очень велико, однако, лишь небольшое количество их обозначается специальными терминами. В новое время число этих терминов значительно увеличилось. Во многих первобытных языках группировки желтого, зеленого и голубого цветов не согласуются с нашими. Часто желтый и желтовато-зеленый цвета соединяются в одну группу, зеленый и голубой — в другую. Типической, всюду встречающейся чертой является употребление одного термина для обозначения большой группы сходных ощущений.
Эту черту человеческой мысли и речи можно сравнить с ограничением всего ряда возможных артикулирующих движений, путем выбора ограниченного числа привычных движений. Если бы вся масса понятии со всеми их вариантами выражалась в языке совершенно разнородными комплексами звуков или основами слов, не находящимися ни в какой связи друг с другом, то близкое родство идей не выражалось бы в соответственном родстве их звуковых символов, и для их выражения требовалось бы бесконечно большее число различных основ слов. В таком случае ассоциация между идеей и служащей ее представительницей основой слова не становилась бы достаточно прочной для того, чтобы ее можно было во всякий данный момент воспроизводить автоматически без рефлексии. Благодаря автоматическому и быстрому пользованию артикуляциями, из бесконечно большого количества возможных артикуляций и групп артикуляций было выбрано лишь ограниченное число артикуляций, изменчивость которых ограничена, и ограниченное число звуков. Точно таким же образом бесконечно большое число идей было сведено, путем классификации, к меньшему числу идей, между которыми, благодаря их постоянному применению, установились прочные ассоциации, которыми можно пользоваться автоматически.
Теперь важно подчеркнуть тот факт, что в группах идей, выражаемых специфическими основами слов, в разных языках обнаруживаются весьма существенные различия, и что они никоим образом не соответствуют одним и тем же принципам классификации. Беря пример из английского языка, мы находим, что идея «воды» выражена в большом числе разнообразных форм. Один термин служит для обозначения воды, как жидкости; другой — воды, занимающей большое пространство, «озера»; другие — воды, как текущей в большом или небольшом количестве (река и ручей); еще другие термины обозначают воду в форме дождя, росы, волны и пены. Вполне понятно, что это разнообразие идей, каждая из которых выражается в английском языке при посредстве особого независимого термина, могло бы быть выражена в других языках производными от одного и того же термина.
Другими примером того же рода могут служить слова, служащие для обозначения «снега» в языке эскимосов. Здесь мы находим одно слово, обозначающее «снег на земле», другое — «падающий снег», третье — «снежный сугроб», четвертое — «снежную вьюгу».
В том же языке тюлень в различных положениях обозначается различными терминами. Одно слово является общим термином для «тюленя», другое означает «тюленя, греющегося на солнце», третье — «тюленя, находящегося на плавающей льдине», не говоря уже о многих названиях для тюленей разных возрастов и для самца и самки.
Как пример такого способа группировки терминов, выражаемых нами независимыми словами, при котором эти термины подводятся под одно понятие, может служить дакотский язык. Термины «ударять», «связывать в пучки», «кусать», «быть близким к чему либо», «толочь», — сплошь произведены от общего, обединяющего их элемента, означающего «схватывать», между тем как мы пользуемся для выражения разных идей различными словами.
Очевидно, что выбор таких простых терминов должен, до известной степени, зависеть от главных интересов народа. Там, где необходимо различать многие стороны известного явления, каждая из которых играет в жизни народа совершенно независимую роль, могут развиться многие независимые слова, тогда как в других случаях могут оказываться достаточными видоизменения одного термина.
Таким образом, оказывается, что каждый язык может, с точки зрения другого языка, казаться произвольным в своих классификациях: то, что представляется одной простой идеей в одном языке, может быть характеризуемо в другом языке рядом различных основ слов.
Тенденция языка выражать сложную идею одним термином была названа «holophrasis» (I. W. Powell, «Introduction to the Study of Indian Languages» (2d ed., Waschington, Bureau of Ethnology, pp. 69 et seq.)). Повидимому, всякий язык может с точки зрения другого языка казаться голофрастическим. Вряд ли можно признать эту тенденцию основной, характерной чертой первобытных языков.
Мы уже видели, что своего рода классификацию выражений можно найти во всяком языке. Благодаря этой классификации идей по группам, каждая из которых выражается независимой основой слова, понятия, смысл которых трудно выразить посредством одной основы, непременно должны выражаться комбинациями или видоизменениями элементарных основ в соответствии с теми элементарными идеями, к которым сводится данная идея.
[…]
Убедившись, таким образом, в том, что все языки требуют известных классификаций и формальных элементов и содержат их в себе, мы приступим к рассмотрению отношения между языком и мыслью. Утверждали, что сжатость и ясность мысли народа в значительной степени зависят от его языка. Та легкость, с которою мы выражаем в наших новых европейских языках широкие отвлеченные идеи одним термином и с которою широкие обобщения формулируются в простых фразах, признавалась одним из основных условий ясности наших понятий, логической силы нашей мысли и точности, с которой мы устраняем в наших мыслях не относящиеся к делу детали. Повидимому, многое говорит в пользу этого взгляда.
Если сравнить современный английский язык с некоторыми из наиболее конкретных по свойственной им выразительности индейских языков, то контраст поразителен. Когда мы говорим: «Глаз есть орган зрения», индеец может оказаться неспособным образовать выражение «глаз», может быть, ему придется указывать, имеется ли в виду глаз человека или глаз животного. Индеец может также оказаться неспособным легко обобщить отвлеченную идею глаза, как представителя целого класса об'ектов; но, может быть, ему придется специализировать мысль выражением вроде «этот глаз здесь». Далее, он, пожалуй, не в состоянии выразить одним термином идею «органа», но ему придется подробно определять ее при посредстве выражения вроде «орудия видения», так что вся фраза может принять форму вроде «глаз неопределенного лица есть орудие его видения».
Все же следует признать, что общая идея может быть хорошо выражена в этой более специфической форме. Кажется весьма сомнительным, насколько в самом деле можно считать ограничение употребления известных грамматических форм препятствием при формулировке обобщенных идей. Гораздо вероятнее, что отсутствие этих форм обусловлено отсутствием надобности в них. Первобытный человек, разговаривая со своим собратом, не имеет обыкновения рассуждать об отвлеченных идеях. Его интересы сосредоточиваются на занятиях его обыденной жизни; а когда затрагиваются философские проблемы, они обсуждаются или в связи с определенными индивидуумами, или в более или менее антропоморфных формах религиозных верований. В первобытной речи вряд ли встречаются рассуждения о качествах без связи с об'ектом, которому качества принадлежат, или о деятельностях или состояниях, рассматриваемых без связи с идеей деятеля или суб'екта, находящихся в известном состоянии. Таким образом, индеец не станет говорить о доброте, как таковой, хотя он, конечно, может говорить о доброте какого-либо лица. Он не станет говорить о состоянии блаженства без отношения к лицу, находящемуся в таком состоянии. Он не станет упоминать о способности к движению, не указывая индивидуума, обладающего такой способностью.
Таким образом, оказывается, что в языках, в которых идея обладания выражается элементами, подчиненными именам существительным, все отвлеченные термины всегда являются с притяжательными элементами. Однако, вполне возможно, что индеец, приученный к философской мысли, взялся бы за освобождение основных именных форм от притяжательных элементов и, таким образом, дошел бы до отвлеченных форм, точно соответствующих отвлеченным формам наших новых языков. Я сделал этот опыт, например, на одном из языков острова Ванкувера, в котором ни один отвлеченный термин никогда не встречается без своих притяжательных элементов. После некоторых разговоров я нашел, что очень легко развить идею отвлеченного термина в уме индейца, который признал, что слово без притяжательного местоимения имеет смысл, хотя оно и не употребляется в языке. Мне удалось, например, изолировать, таким образом, термины для выражения «любви» и «сожаления», обыкновенно встречающиеся лишь в притяжательных формах вроде «его любовь к нему» или «мое сожаление к вам». В правильности этой точки зрения можно убедиться также и по отношению к языкам, в которых притяжательные элементы являются как независимые формы, например, в языках сиуксов. В этих языках чистые отвлеченные термины весьма обыкновенны.
Есть также данные, свидетельствующие о том, что можно обходиться без других, столь характерных для многих индейских языков, специализирующих элементов, когда, по той или иной причине, представляется желательным обобщить какой-либо термин. Беря пример из одного из западных языков (Квакиутль на острове Ванкувере), идея «сидеть» почти всегда выражается неотделимым суффиксом, обозначающим место, на котором сидит какое-либо лицо, как-то: «сидит на полу в доме», «на земле», «на отлогом берегу», «на груде вещей» или «на круглой вещи» и т. д. Однако, когда по какой-либо причине требуется подчеркнуть идею сидения, может употребляться форма, выражающая просто «будучи в сидячем положении». В этом случае также оказывается налицо способ, которым можно пользоваться для обобщенного выражения, но случаи его применения представляются редко, или, быть может, никогда не представляются.
Ф. Боас. Ум первобытного человека. URSS, Москва, 2011, с. 81-83. (Оригинал: Franz Boas.The Mind of Primitive Man, 1911)
Мы попросили нашего Эксперта-лингвиста прокоммертировать эту цитату из книги классика американской антропологии:
Франц Боас – потому и классик, что обычно он всё понимает правильно. Он пишет, что в любом языке можно найти средства для выражения любой идеи – например, язык индейцев о. Ванкувер оказался вполне пригоден для того, чтобы говорить о «любви» или «сожалении» вообще, без применения к конкретным лицам, испытывающим эти чувства или являющимся их объектами. Впечатление «примитивности» некоторых языков возникает лишь потому, что эти языки пока ещё не занялись подыскиванием средств для выражения некоторых понятий, которые другие языки уже нашли. Например, в выражении «глаз – орган зрения» слово «орган» – не русское. И не английское. Европейские языки просто заимствовали это греческое по происхождению слово – и не считают себя на этом основании «примитивными». Ну, так любой другой язык может в любой момент сделать то же самое.
Не менее справедливо и замечание Ф. Боаса о том, «что каждый язык может, с точки зрения другого языка, казаться произвольным в своих классификациях», и обозначение отдельными словами того, что в привычном нам языке обозначается одним общим словом (или, наоборот, обозначение общим словом того, что в привычном нам языке называется несколькими разными словами) нельзя считать «примитивной» чертой «первобытных» языков. Чтобы убедиться в этом, даже не надо знать языки индейцев, папуасов или австралийских аборигенов, достаточно, например, русского и английского. В английском языке русским словам «синий» и «голубой» соответствует «blue». С другой стороны, английским словам «hand» и «arm» в русском соответствует слово «рука». И какой язык более «примитивен» – тот, который не различает/излишне детализирует цвета или тот, который не различает/излишне детализирует элементы анатомии?
Иное дело, что многие читатели готовы эти Боасовские примеры рассматривать как свидетельство «неполноценности» соответствующих языков. Но здесь дело в том, что смысл каждого речевого произведения – это совместное творчество говорящего и слушающего (или пишущего и читающего). Вспомните героя Л.Н. Толстого, который однажды услышал сквозь сон, что «сопрягать надо». Кто автор идеи сопряжения, родившейся в его мозгу? Он сам? Нет: эта мысль пришла ему в голову только тогда, когда он услышал слова мужика за окном, говорившего, что «запрягать надо». Мужик за окном? Тоже нет: он точно никакого «сопряжения» в виду не имел. В обычной жизни это сотворчество не так заметно – при передаче простых смыслов типа «на улице дождь, возьми зонтик» то, что отражается в голове слушающего, обычно весьма точно совпадает с тем, что планировал передать говорящий (и то некоторые слушающие готовы даже в этой нехитрой фразе усмотреть, скажем, нежную заботу или, наоборот, гиперопеку). Так и в данном случае: увидят в Боасовских примерах что-то необычное, несвойственное родному (тем самым, по определению «правильному» и «хорошему») языку – и начинают говорить о «примитивности», «отсталости» языков американских аборигенов.
Но давайте рассмотрим некоторые случаи, разбираемые Ф. Боасом, поподробнее. Многие, например, поражаются обилию эскимосских обозначений снега. Но ведь русский язык не менее удивителен: в нём разными корнями (даже не производными словами, а прямо-таки отдельными корнями, как будто между соответствующими понятиями нет ничего общего) обозначаются
– снег, лежащий горкой,
– снег, падающий с неба,
– снег, летящий по земле,
– снег, кружащийся в воздухе,
– снег, сильно кружащийся в воздухе,
– снег, очень сильно кружащийся в воздухе,
– снег, очень сильно кружащийся в воздухе, так что это уже опасно для жизни,
– снег, только что выпавший и лежащий на земле тонким слоем,
– смёрзшийся снег, образующий корку поверх толстого слоя рыхлого снега
(если Вы ещё не догадались, речь идёт о словах сугроб, снегопад, позёмка, вьюга, метель, пурга, буран, пороша, наст, а слова снег, снежок, снежинка и снеговик я в список не включила, поскольку у них тот же корень, что и в слове снегопад).
В эскимосском языке, конечно же, должно быть ещё специальное слово для прочного снега, из которого хорошо строить иглу.
Что же до выражения чего-то абстрактного или, наоборот, конкретного – опять же, можно заняться интроспекицей – посмотреть на самих себя. Часто ли Вы, читающий сейчас эти строки, употребляете, например, слово сосуд? Готова держать пари, что редко: в обычной жизни Вас окружают кружки, банки, кастрюли... А слово сосуд Вам понадобится, например, если Вы на археологических раскопках найдёте обломок керамики и не сможете понять, чего это кусок – горшка? кувшина? крынки? амфоры? бочки? флакона? Вот тогда Вы и скажете «фрагмент сосуда». Или, например, часто ли Вы пользуетесь транспортом? Если Вы городской житель, то наверняка да. Потому что Вам совершенно всё равно, доехать на нужного места на троллейбусе, на трамвае или на маршрутке. А если Вы живёте в деревне, из которой до райцентра можно добраться только автобусом, то слово транспорт Вам не понадобится – вы будете ездить на автобусе, на машине или на попутке. Практика показывает, что слов в языке бывает столько, сколько нужно. Появится что-то, с чем носители этого языка часто встречаются в жизни – появится и название для этого. На этом даже основана методика «слов и вещей» – реконструкции прародины и протокультуры для какого-нибудь праязыка по тому, для каких объектов в нём восстанавливаются обозначения. Например, у охотников имеются отдельные названия для пушных зверей в зимнем и в летнем наряде (первый мех годится на шубу, второй – нет), у скотоводов – для самца, самки, детёныша (часто даже отдельные термины для разного возраста), кастрированного самца, мяса... Ну, например, по-русски: бык, корова, телёнок, вол, говядина – а общего слова нет, потому что действия человека относительно быков, коров, волов и телят сильно различны, только в сравнительно недавнее время придумали общее действие для них для всех – считать их по головам. Тут же, кстати, немедленно появился и термин: крупный рогатый скот. Нередко поначалу термин бывает длинным, а потом сокращается: так, вместо фотографических снимков у нас появляются фотки, вместо млекопитающих у зоологов – млеки и т.д.
...А как можно обойтись без слова «сидеть» – спросите у французов, в чьём языке соответствующий смысл можно выразить только описательным выражением ?tre assis (букв.: «быть сидя»).