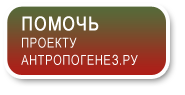Научный редактор АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ, к.б.н., доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова

Специально для портала "Антропогенез.РУ".
Авторский проект С.Дробышевского. Электронная книга даст читателям базовую информацию о том, что известно современной науке о древней родословной человека.
Согласно исторической концепции расы, выдвинутой В.В. Бунаком, расы не являются стабильными, а представляют собой меняющиеся во времени категории (Бунак, 1938). Эти изменения более чем очевидны в современном быстро меняющемся мире с его массовыми миграциями и метисацией всех возможных расовых типов в обширных зонах контактов, как естественных, так и искусственных, например, в гигантских мегаполисах. Тем не менее, комплексы расовых признаков позволяют достаточно отчётливо различать несколько основных значительных группировок человечества – больших рас. Опуская длинную историю расоведения, пропуская бесконечные дебаты специалистов и учитывая терминологическое изобилие, можно констатировать, что даже самые первые расовые классификации не слишком отличаются от самых современных. Как и прежде, по суммарному комплексу признаков человечество делится всего на несколько больших рас – от трёх до пяти.


Расовые типы: вепс, индеец Дакота, китаец, меланезиец, бушмен, австралиец.
Лекционные плакаты кафедры антропологии биофака МГУ
Единство экваториальной (или австрало-негроидной) расы давно подвергается серьёзным сомнениям. Согласно данным одонтологии и молекулярной генетики, гораздо более обосновано выделение западных экваториалов (собственно негроидов) и восточных экваториалов (австралоидов или австрало-меланезоидов), родственных между собой даже менее, чем западные экваториалы с "европеоидами" или восточные экваториалы с "монголоидами".
Рамки евразийской расы (она же европеоидная или кавказоидная), как ни удивительно, менее всего подвергались пересмотру расоведами. Может быть, это связано с тем, что сами расоведы в подавляющем большинстве относились к ней, а её представители всегда были у расоведов на виду. Правда, нельзя сказать, чтобы существовало какое-либо единодушие относительно внутреннего подразделения евразийской расы – тут разные схемы могут различаться кардинально.
Азиатско-американская раса (монголоидная) иногда разделяется на азиатскую и американскую, хотя их глубинное родство всегда было слишком очевидно. Ссылки на наибольшую однотипность этой расы в сравнении с другими часто заменяют описание рельно существующей изменчивости.
Кроме того, целый ряд рас относятся к "промежуточным" или "специфическим" и не могут быть строго отнесены к "главным" предыдущим. Собственно говоря, их "неглавный" статус определяется скорее численностью их представителей и узколокальным распространением, а не морфологическими признаками, что вообще-то некорректно чисто таксономически, но широко закрепилось в расоведческой литературе. Число таких рас точно неизвестно, но классикой стало выделение восточноафриканской (эфиопской), южноиндийской (дравидийской), полинезийской и курильской (айнской), уральской и южносибирской рас.


Эфиоп.
Лекционный плакат кафедры антропологии биофака МГУ
Стоит отметить, что кажущееся однообразие многих рас чаще является следствием плохой изученности, а не реальной мономорфности. Так, всегда мало говорится о расовом разнообразии негроидов, хотя генетические данные свидетельствуют о том, что среди них количество типов должно быть больше, чем во всём остальном человечестве. Эфиопская раса в расоведческих работах предстаёт как монолитная группа, хотя там же упоминается клинальная изменчивость множества признаков в пределах этой расы, а географически и социально ареал этой расы распадается на чётко ограниченные зоны, в которых более чем вероятно существование своеобразных типов. Немного известно о бесчисленных вариантах восточных экваториалов, тогда как географическая и социальная изоляция на островах Меланезии просто обязаны выражаться в существовании множества типов. Например, никем никогда не описывался и не выделялся фиджийский тип, хотя его существование более чем очевидно. Крайне редко упоминается о вариабельности южноиндийской расы, хотя кастовая система в Индии, неизжитая доныне, очевидно способствует возникновению, сохранению и усилению различий расовых типов, существующих объективно, но никем не описанных. Хотя азиатская раса всеми признаётся сравнительно мало изменчивой, география и этнография Юго-Восточной Азии и особенно Индонезии сами по себе подразумевают великую вариабельность. Более того, существующие в реальности переходы от южных монголоидов к восточным экваториалам почти никогда не описывались как самостоятельные типы или расы, а ведь таких переходных типов не один и не два. Почти никогда не уточняется расовая изменчивость коренных жителей обеих Америк. Существующие схемы их дробного деления даже в общих чертах мало совпадают друг с другом, а в деталях расхождения просто удивительны.
Ещё хуже дело обстоит с возникшими недавно смешанными типами, хотя к таковым сейчас относится немалый процент населения Земли. Попытки их классификации предпринимались, но пока лишь на уровне предварительной инвентаризации.
В целом, можно констатировать, что расовая изменчивость современного человечества исследована крайне плохо! После такого введения, думаю, не очень удивительно, что становление расовых комплексов изучено ещё хуже, то есть чрезвычайно недостаточно. Ситуация усугубляется тем, что специалисты по антропогенезу, как правило, не расоведы, а расоведы не очень ориентируются в палеоантропологических находках большой древности. Это приводит, например, к таким ситуациям, когда напрямую сопоставляются находки, имеющие хронологическую разницу в десятки тысяч лет. Тем не менее, попытка упорядочить имеющиеся на нынешний день данные в этой области не лишена смысла.